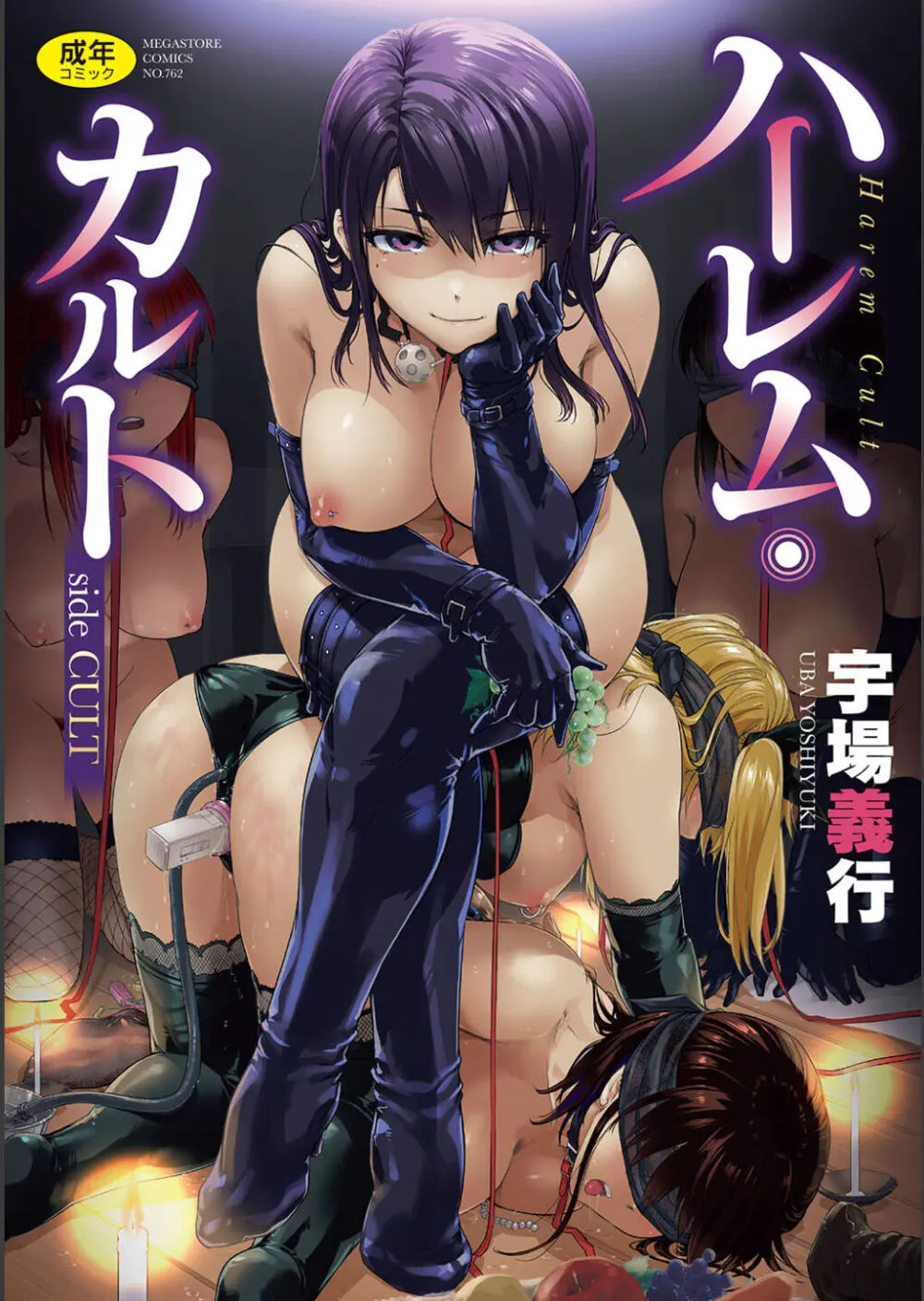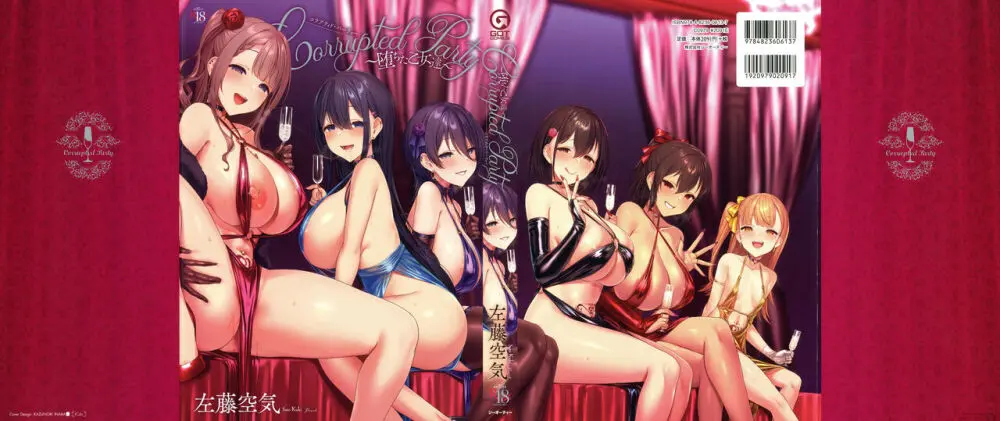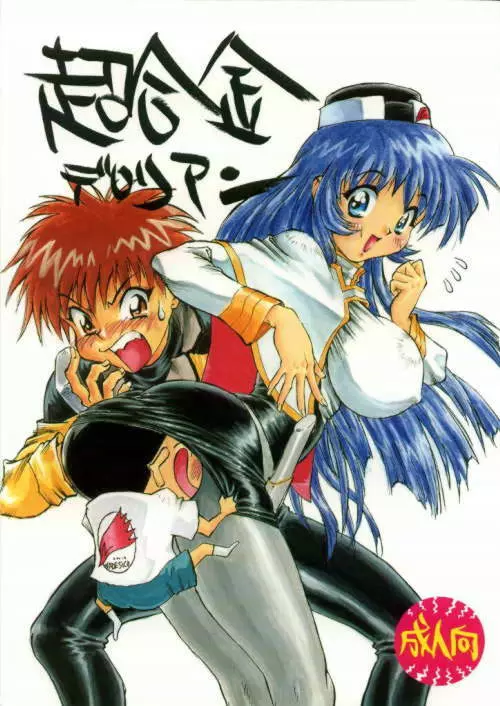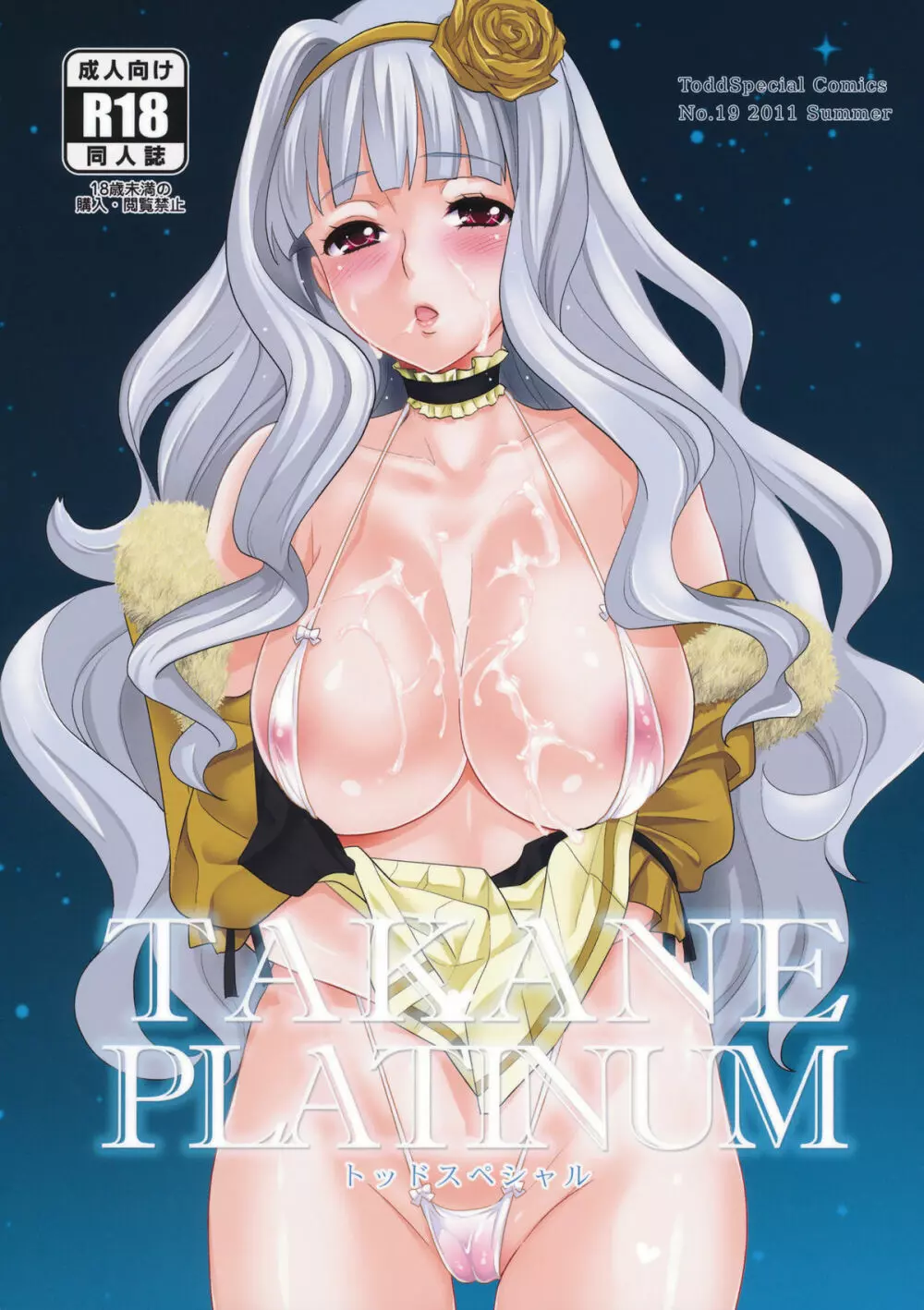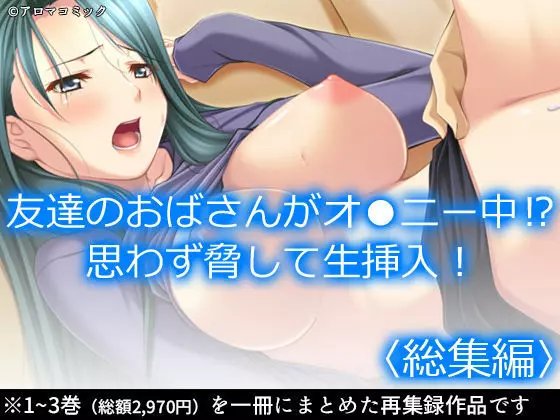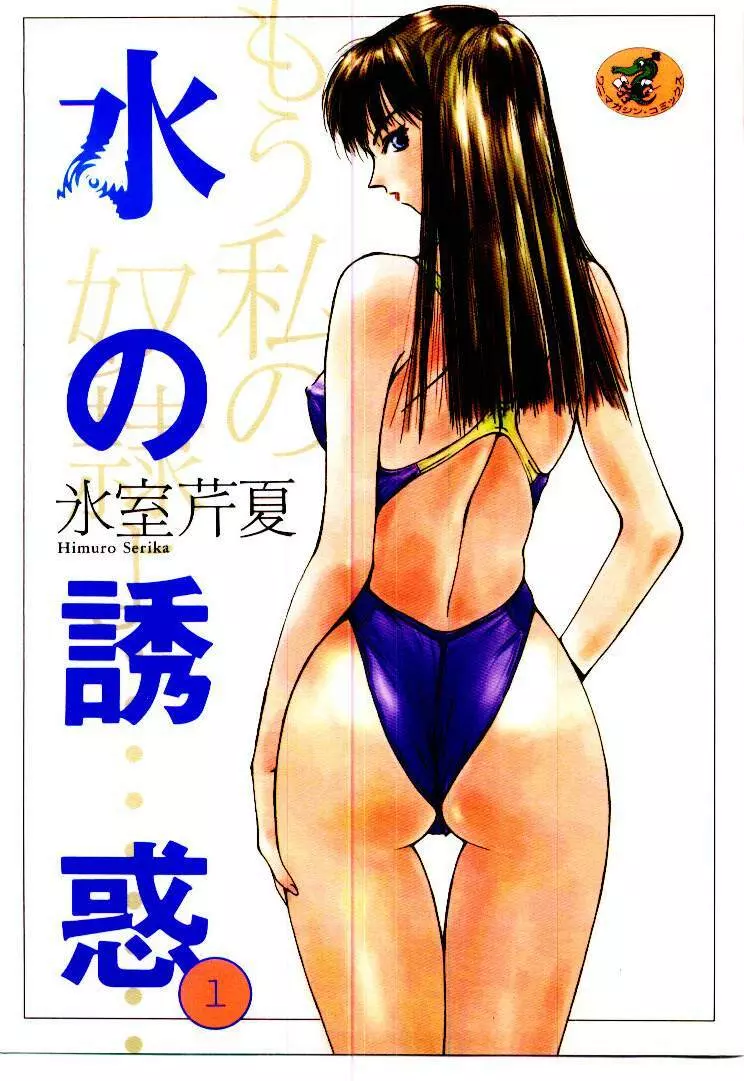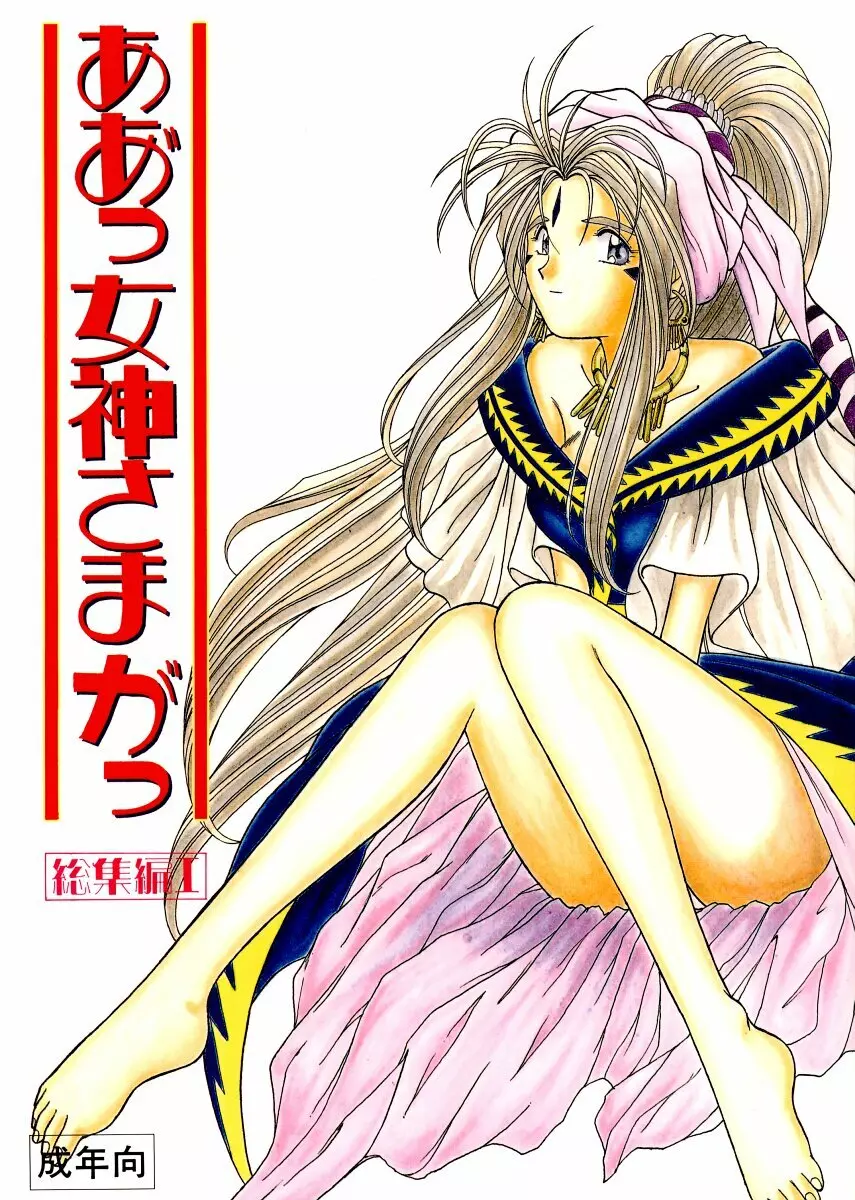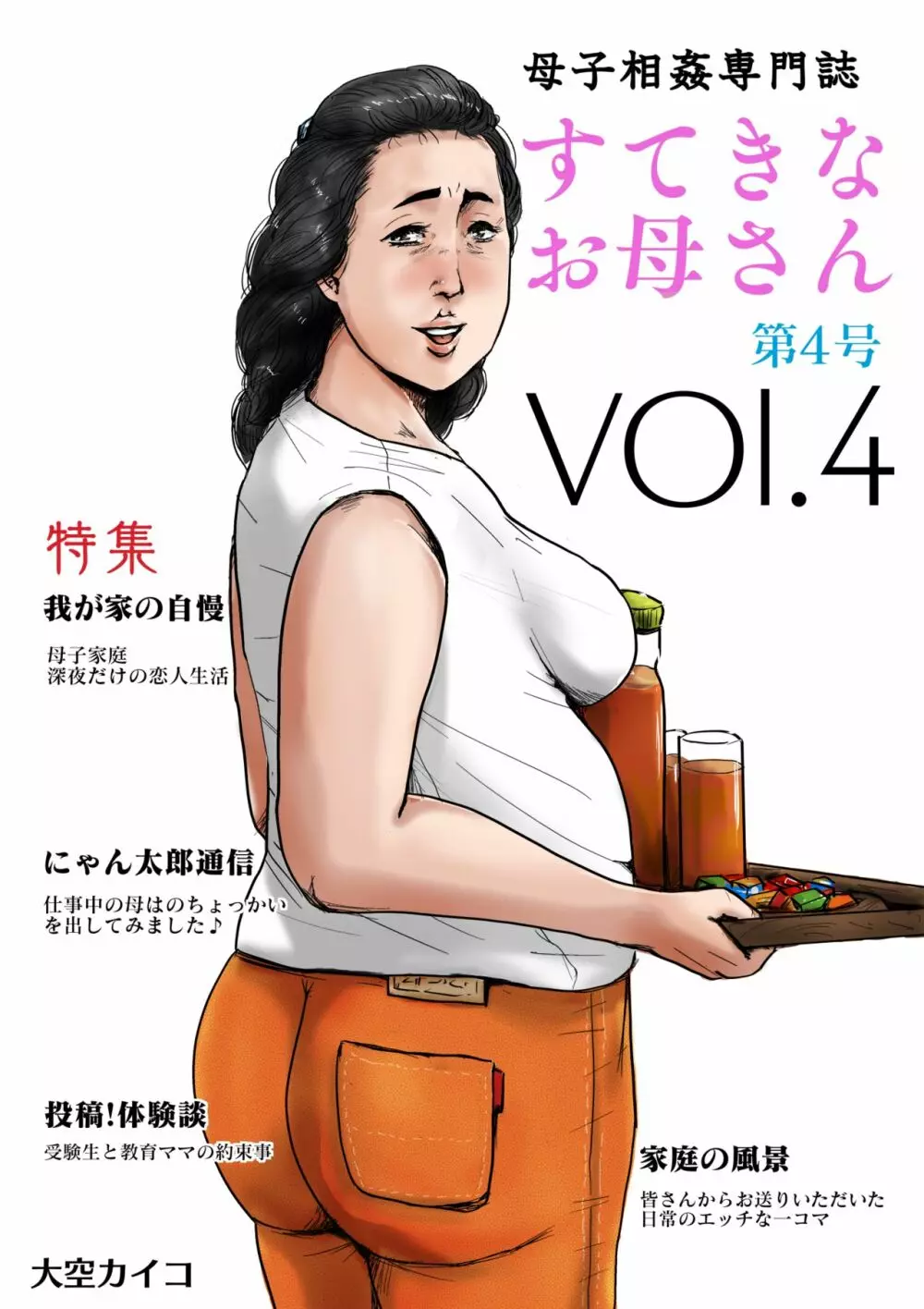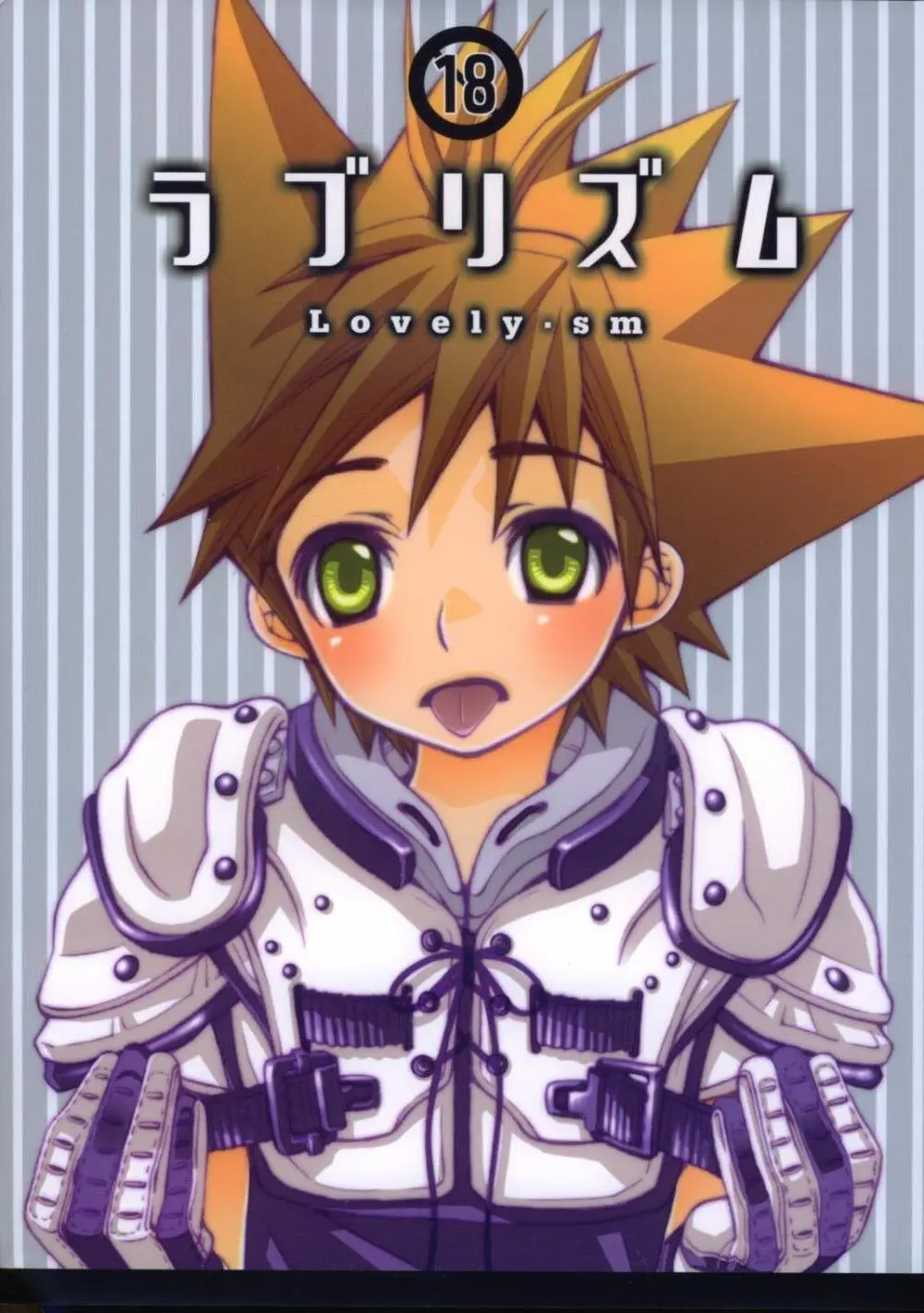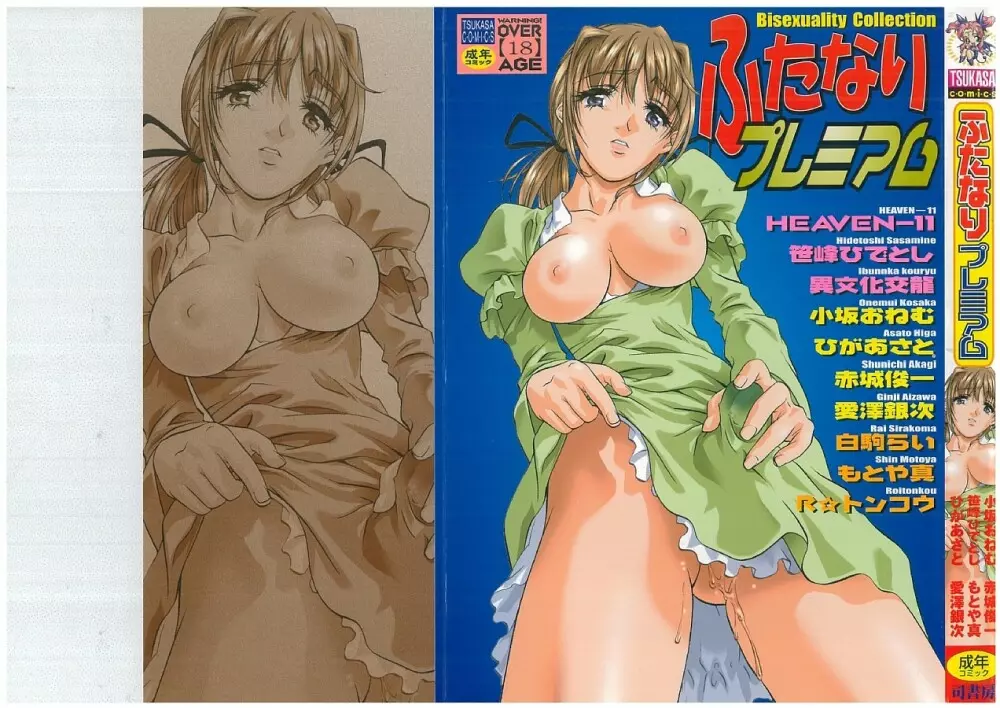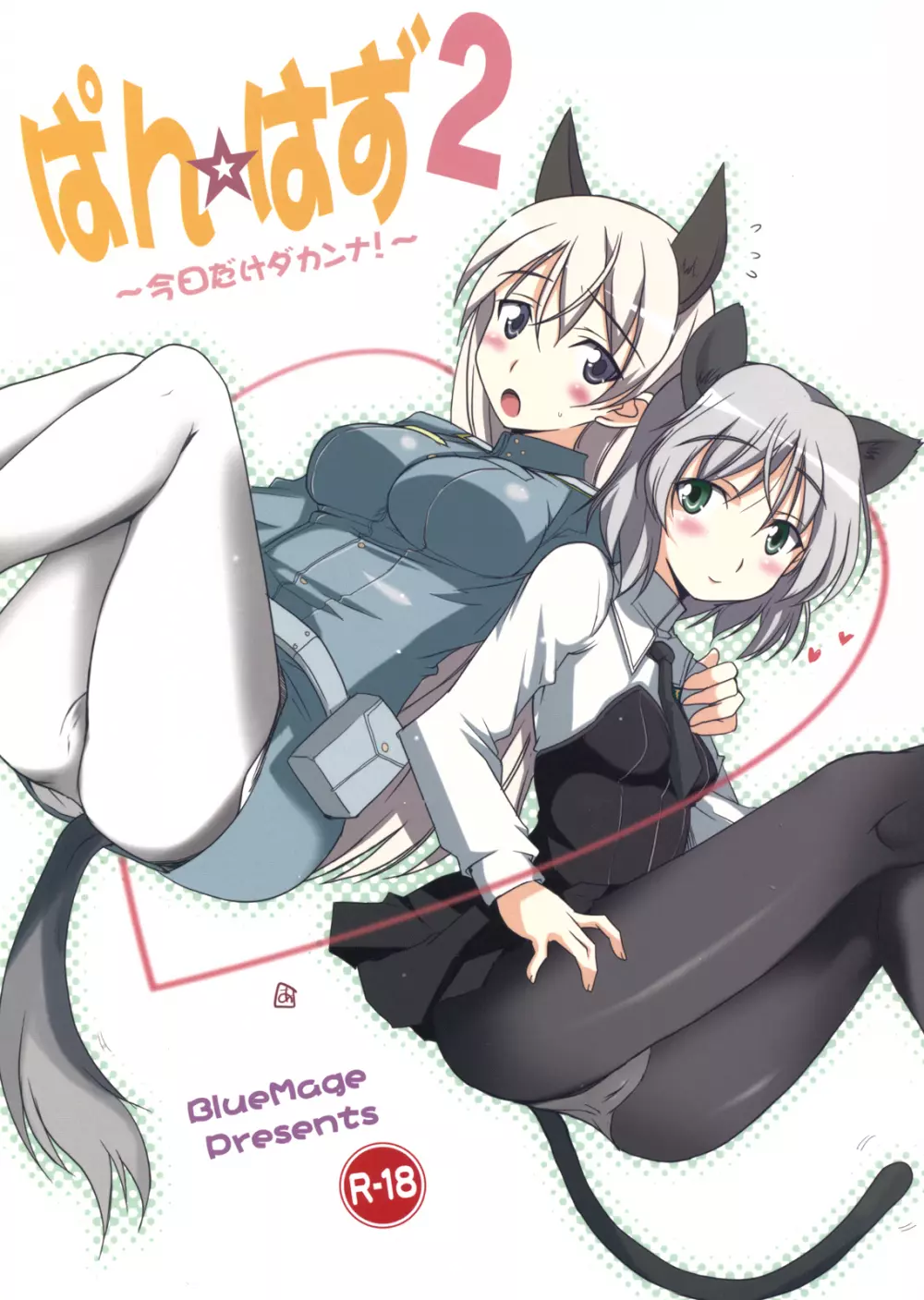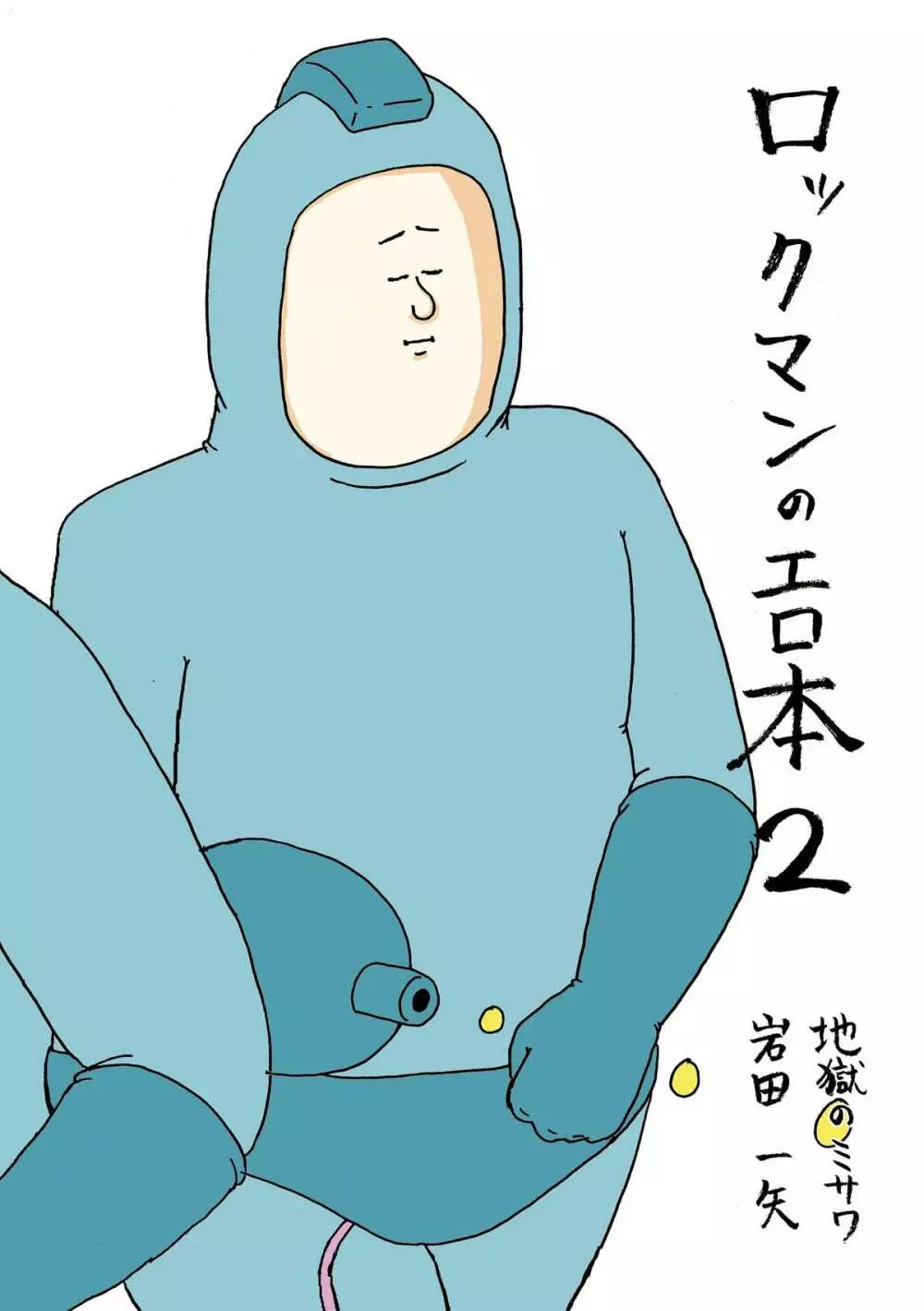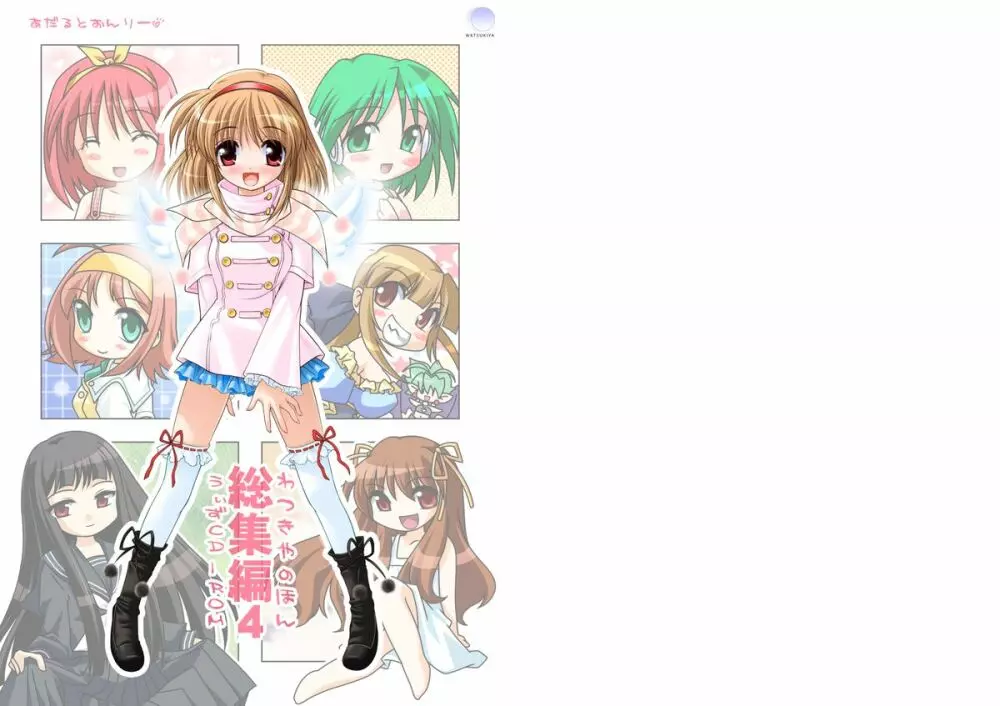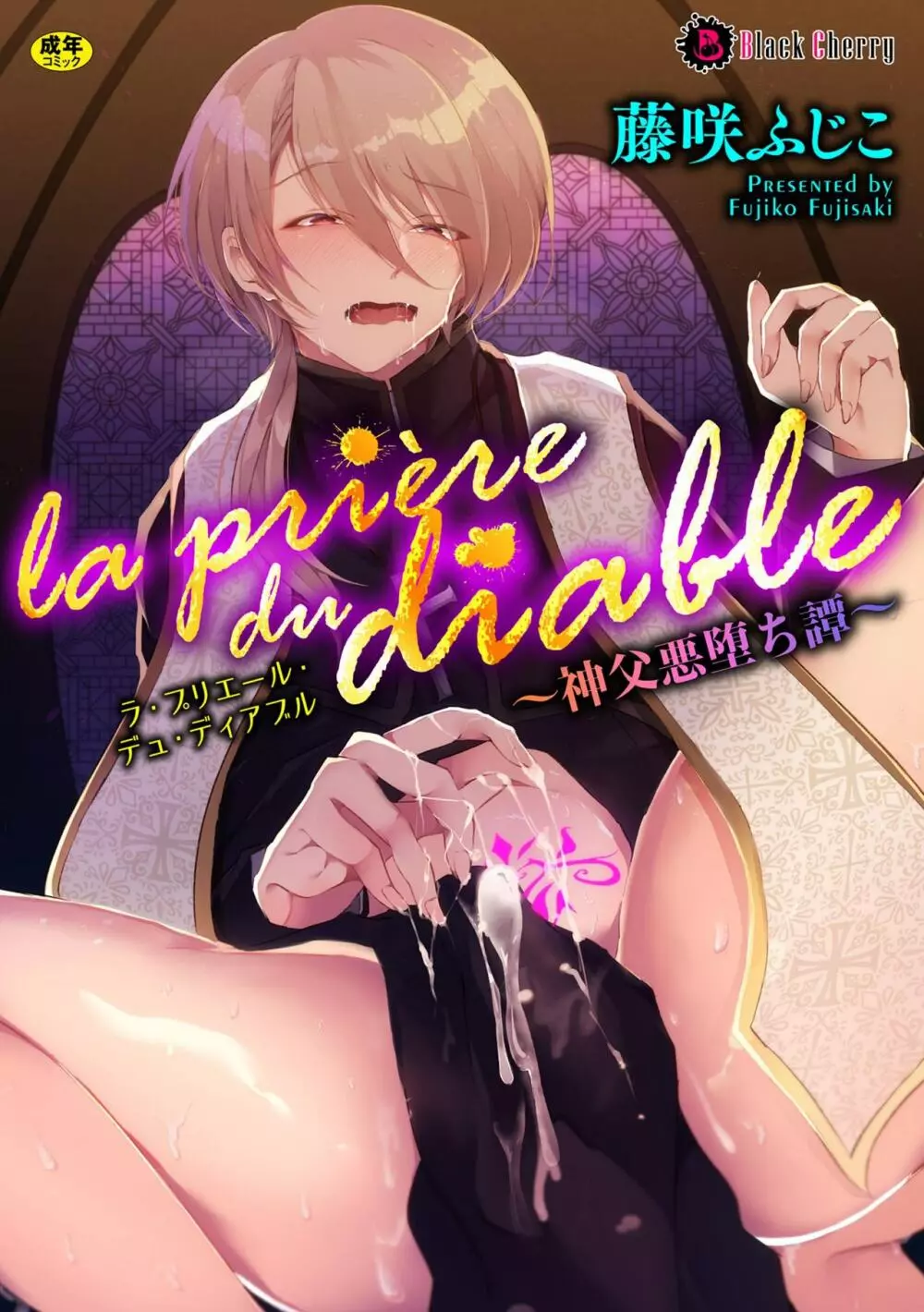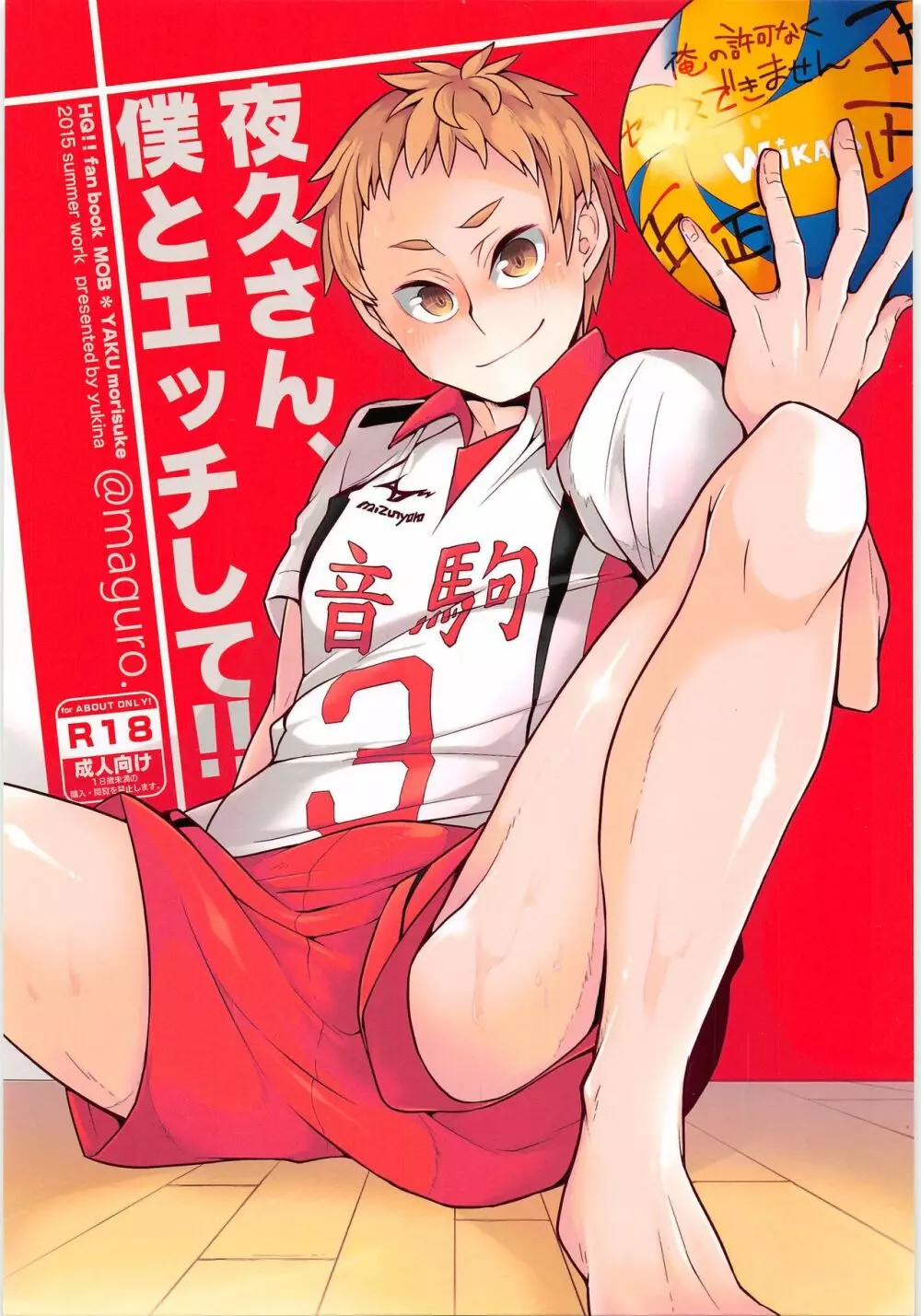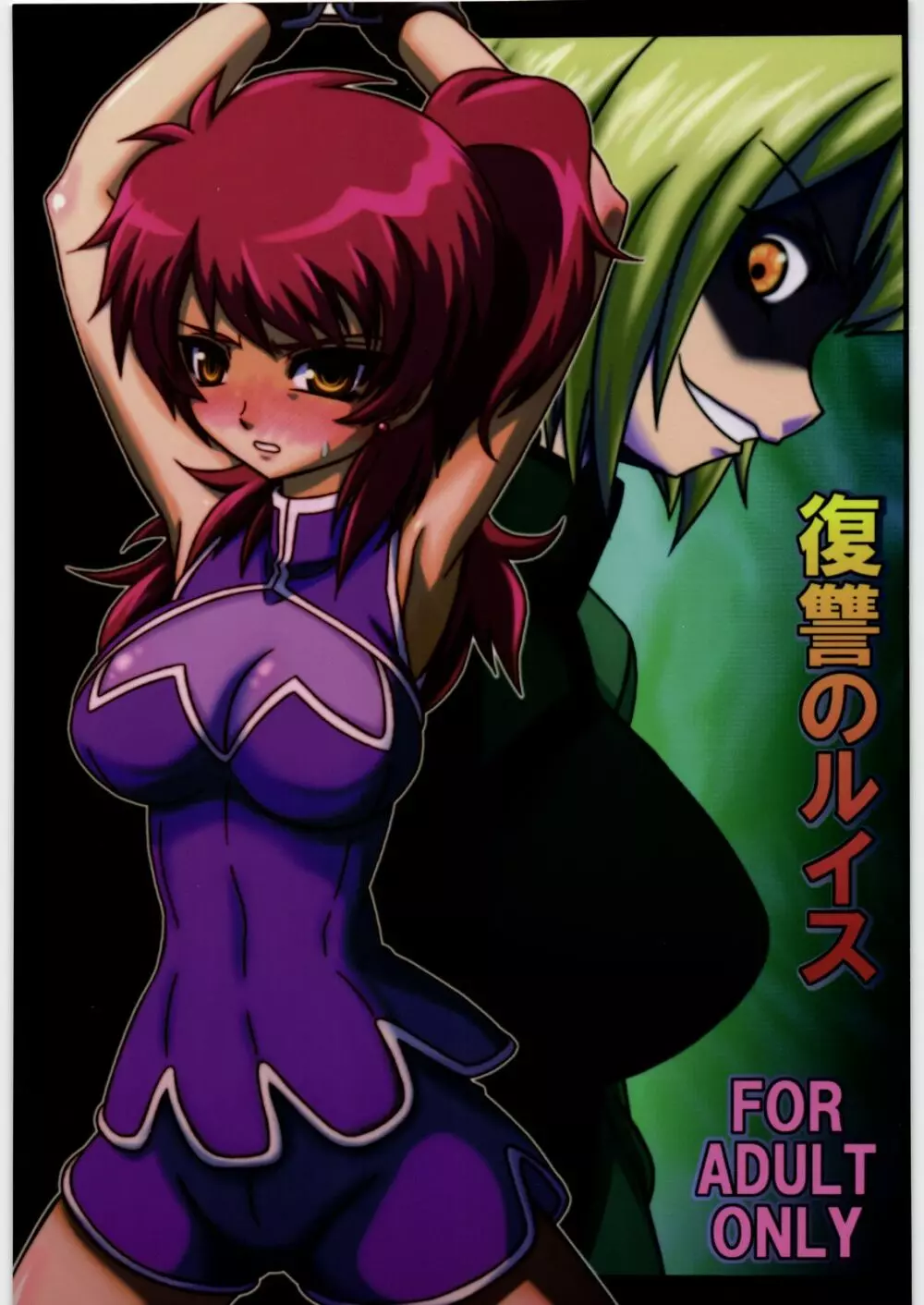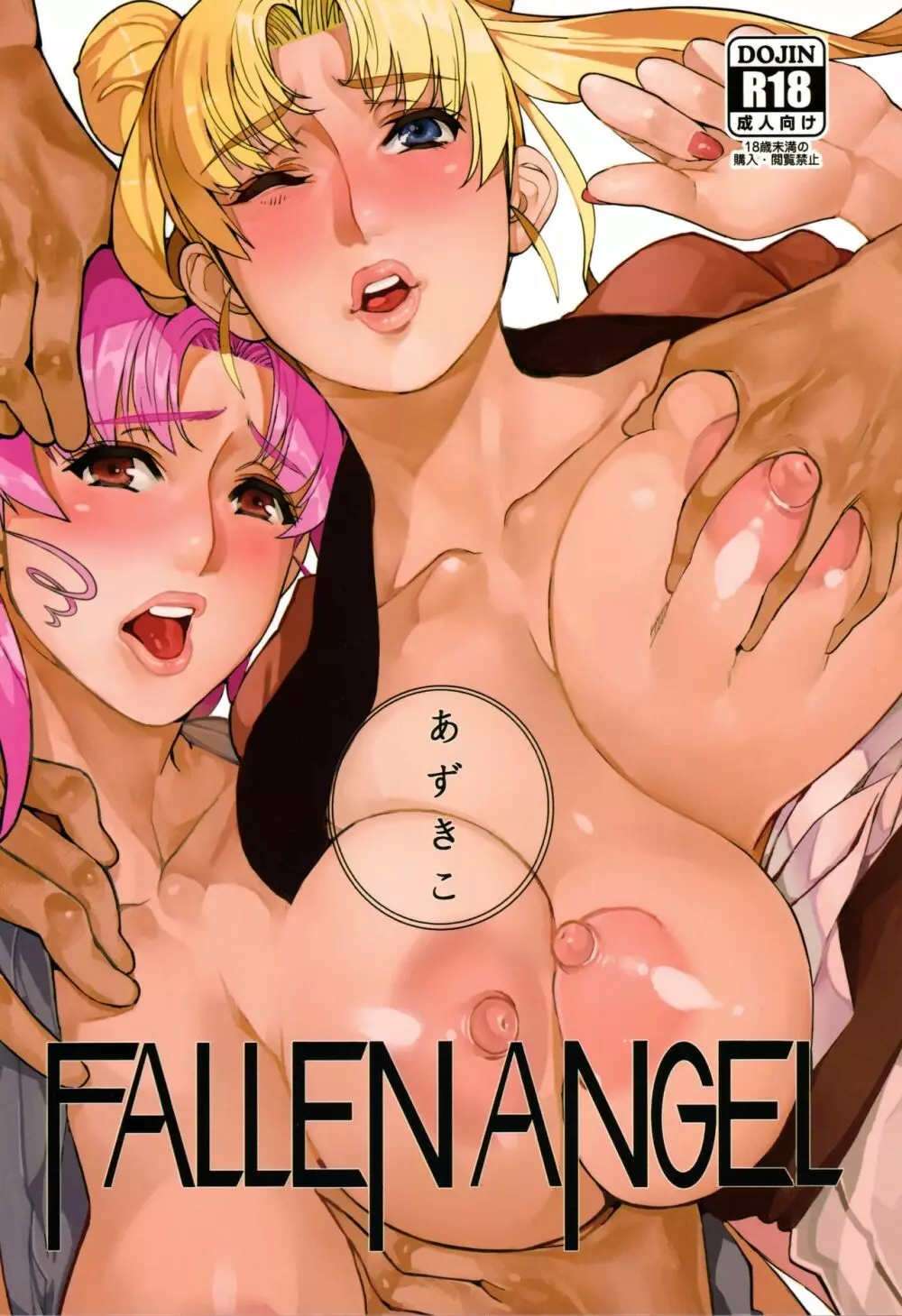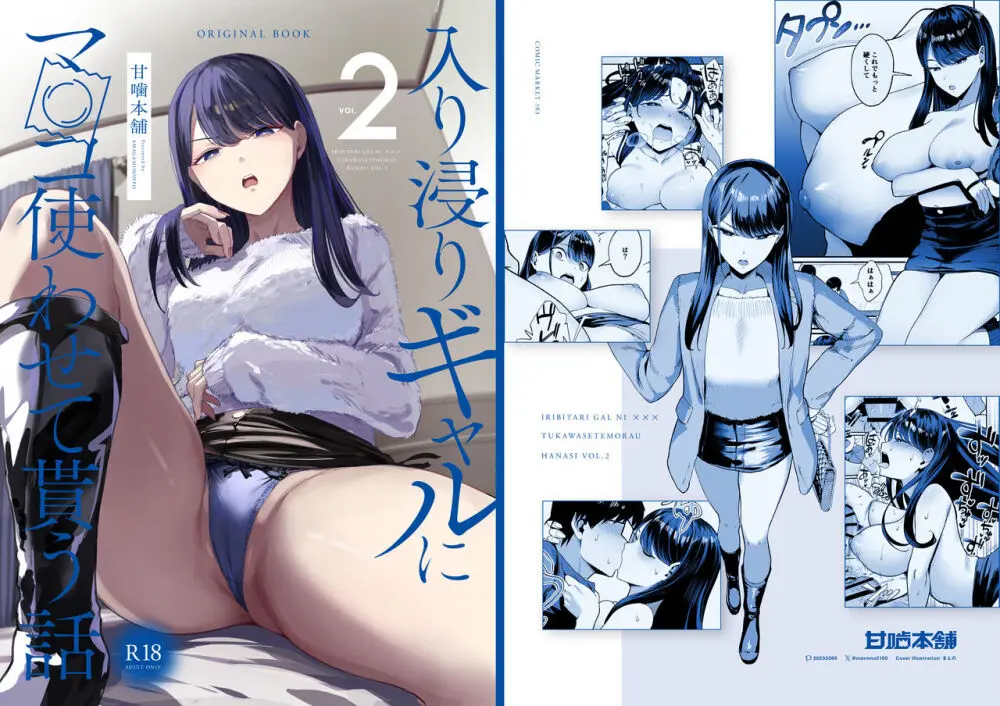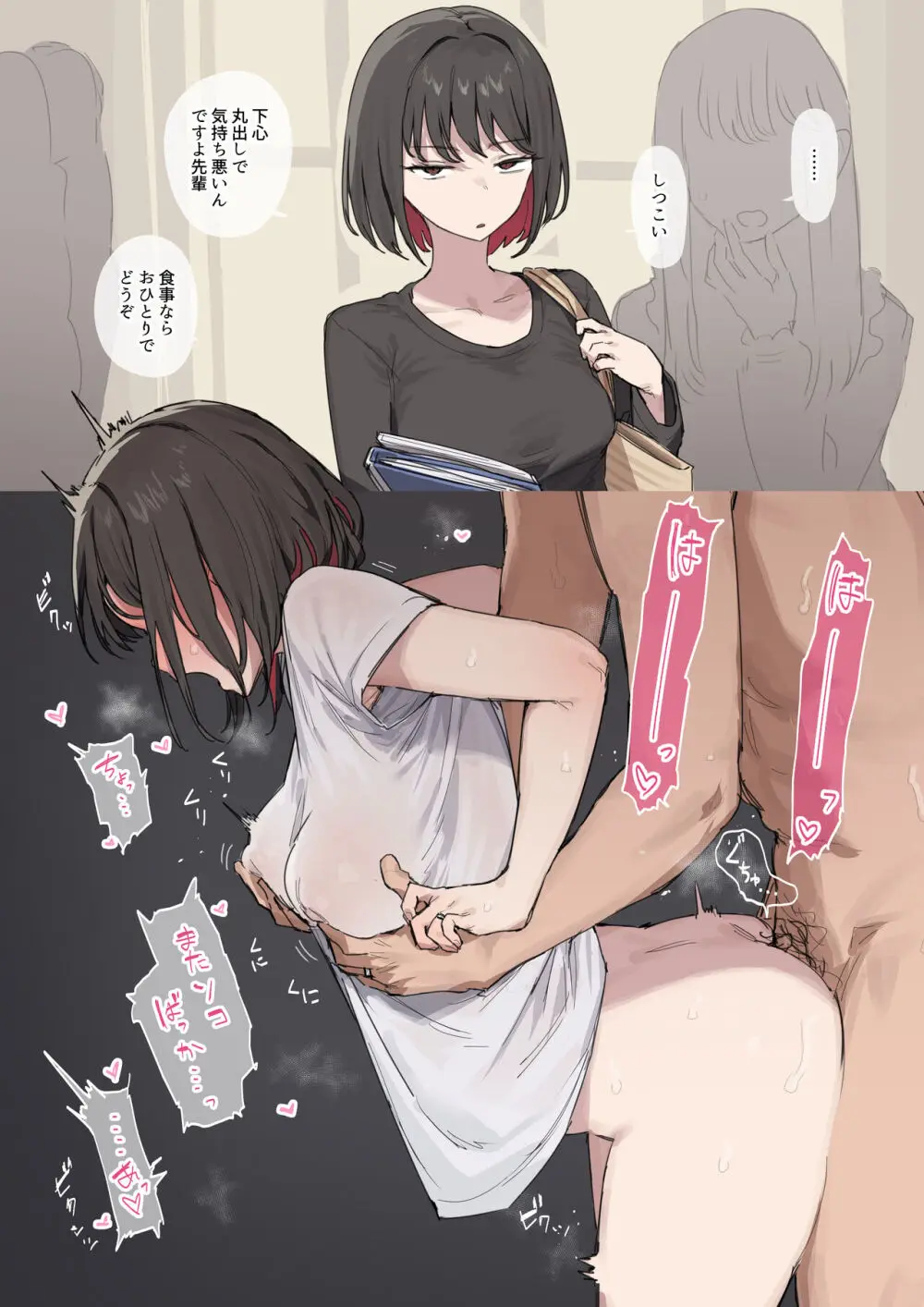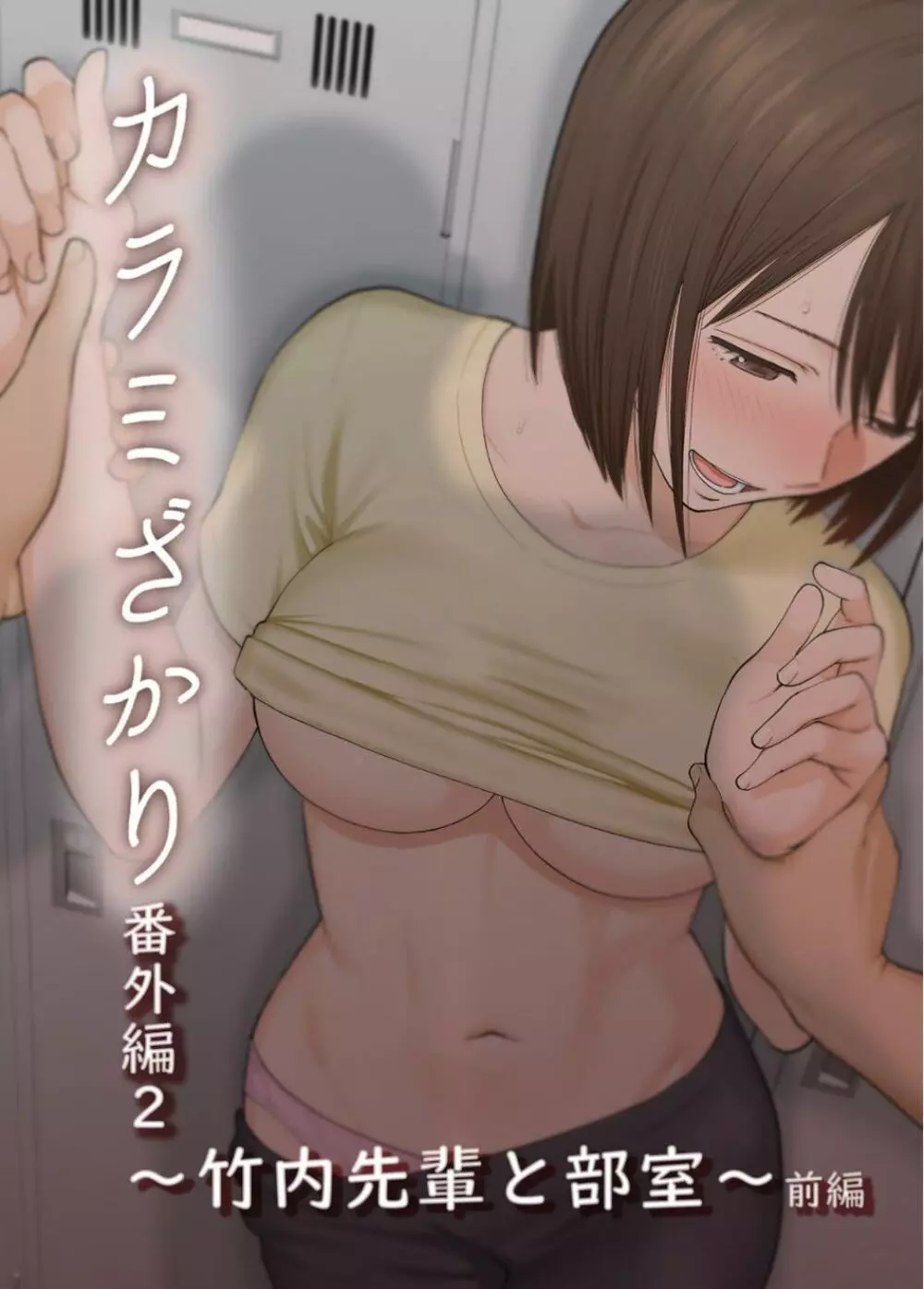stripchat
ライブ配信中
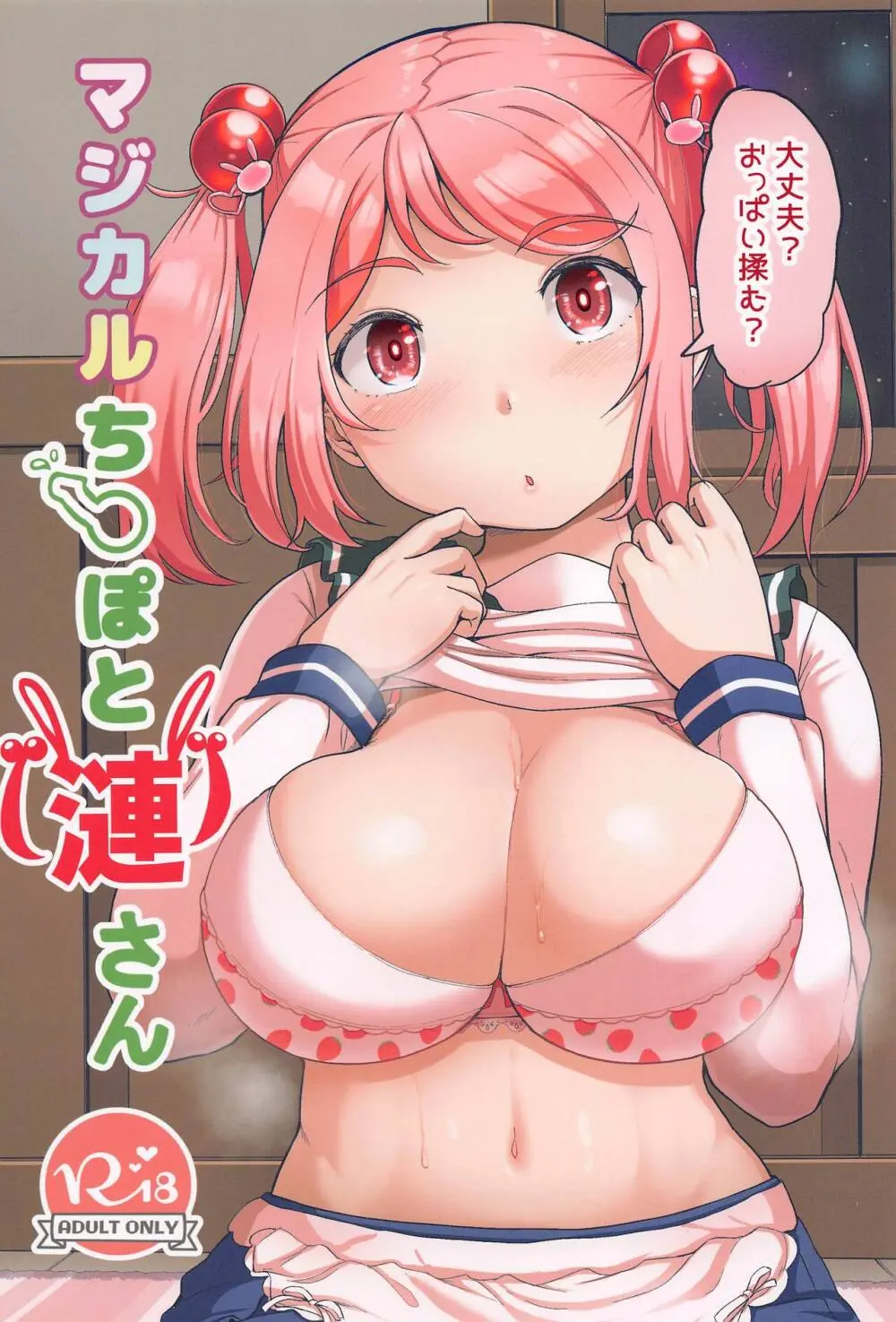
2024年04月18日

2024年04月18日

2024年04月18日

2024年04月18日

2024年04月18日
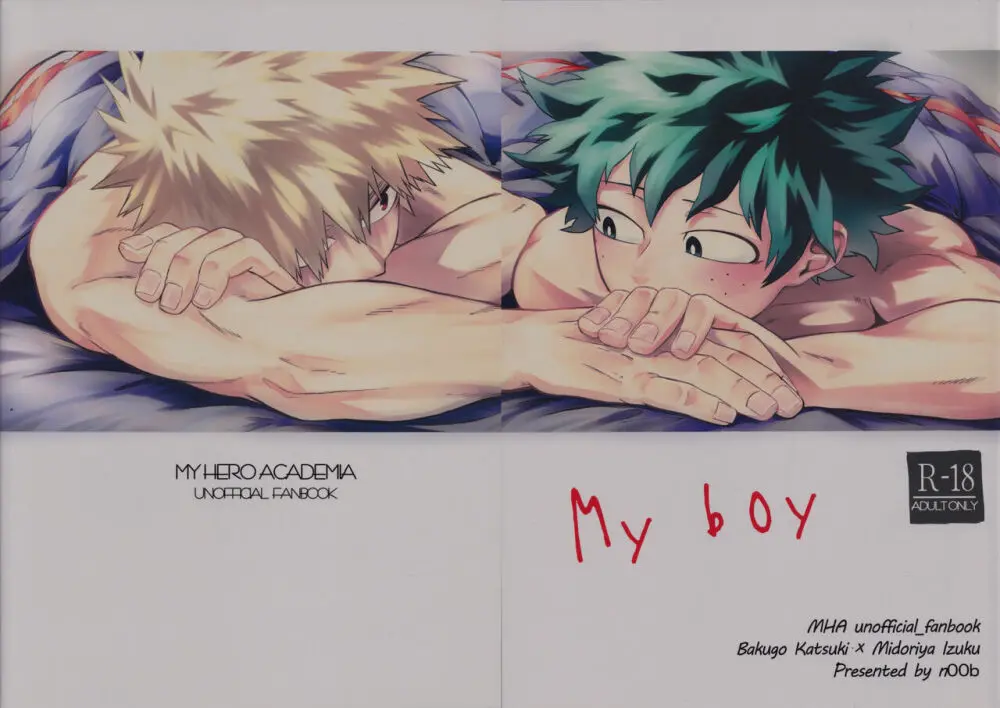
2024年04月18日
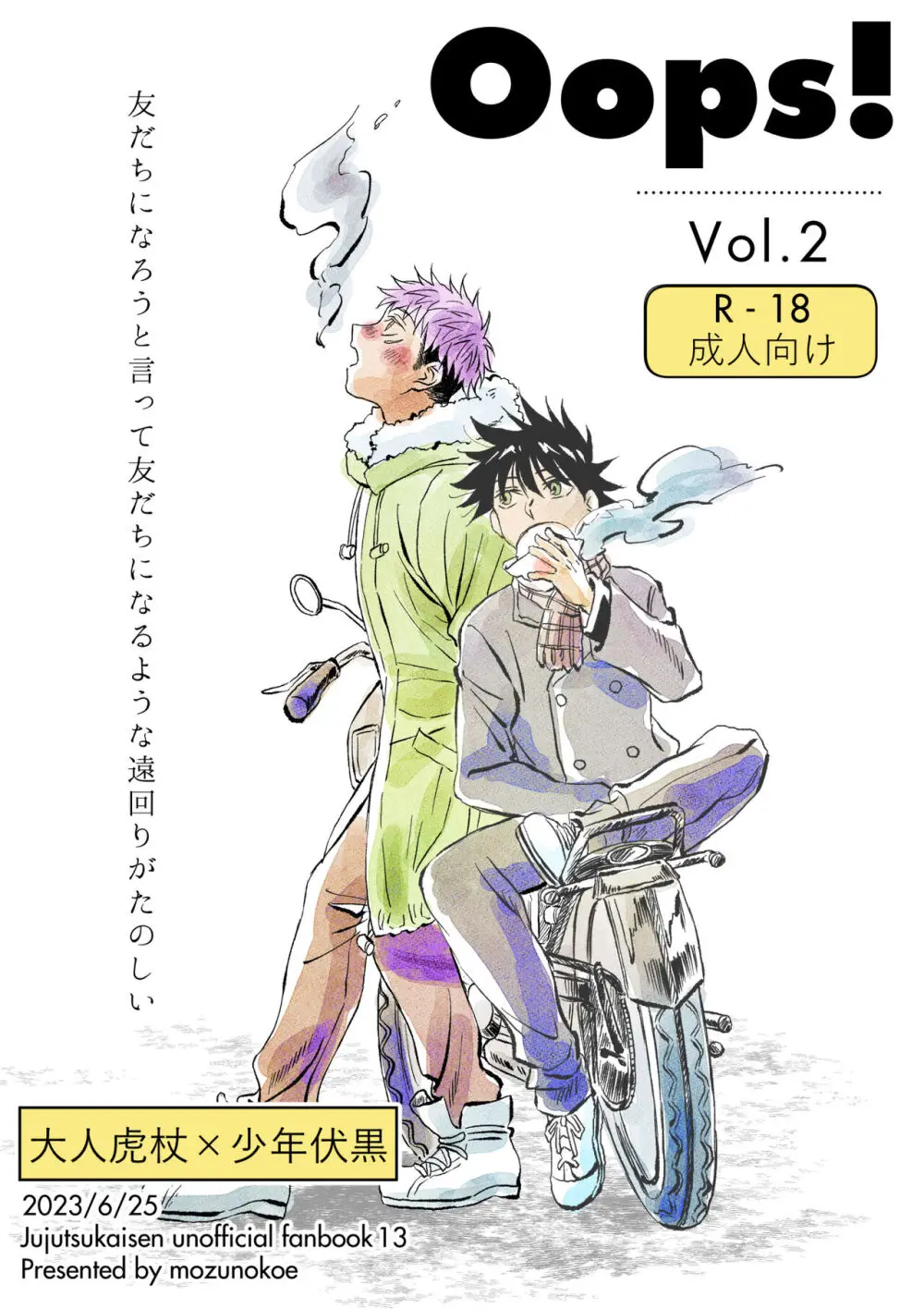
2024年04月18日

2024年04月18日

2024年04月18日

2024年04月18日

2024年04月18日

2024年04月18日
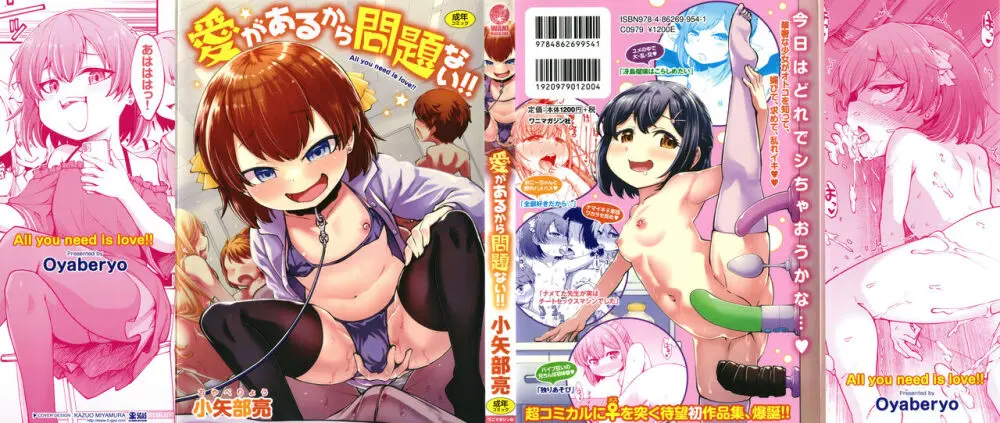
2024年04月18日

2024年04月17日

2024年04月17日

2024年04月16日

2024年04月16日
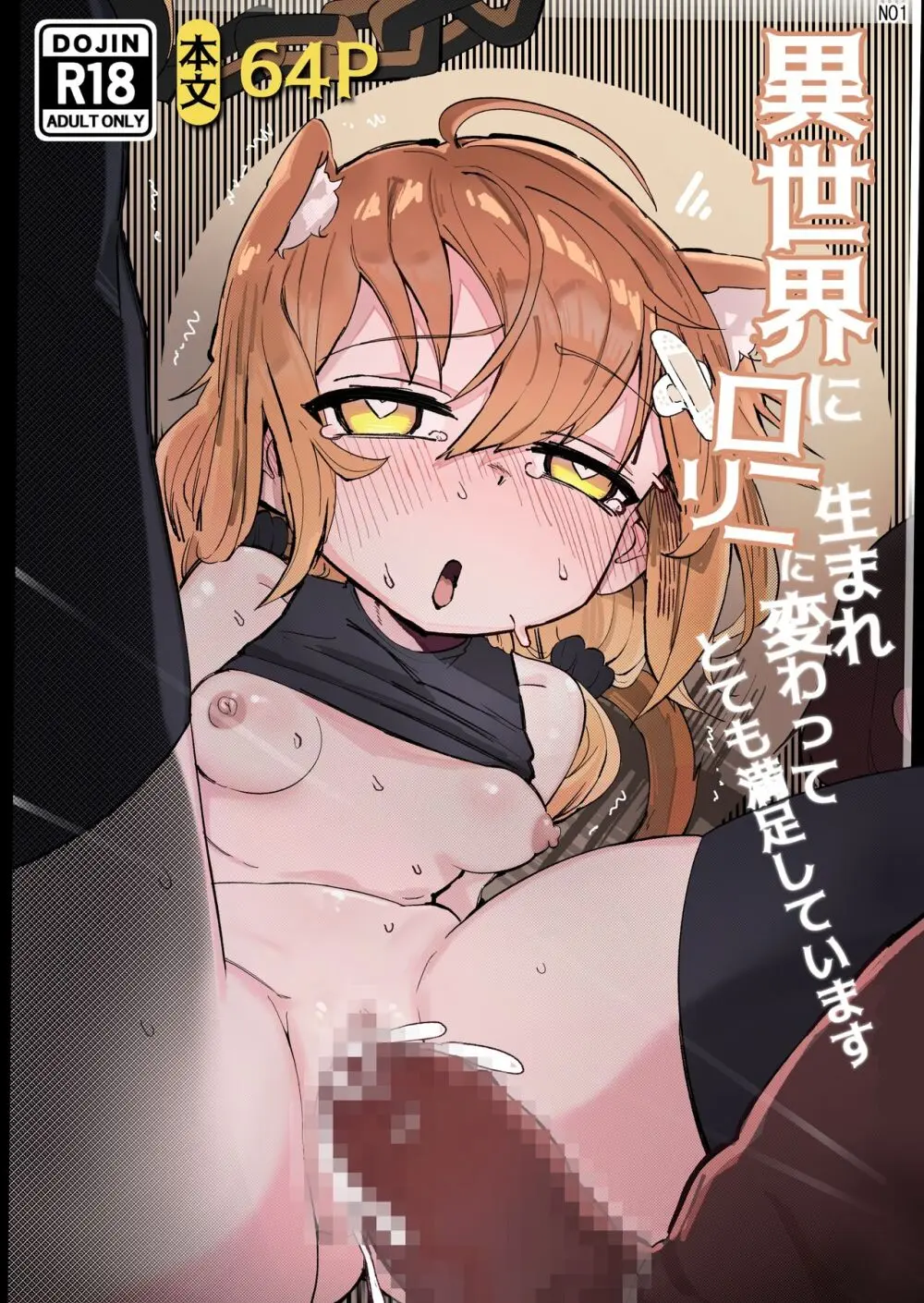
2024年04月16日
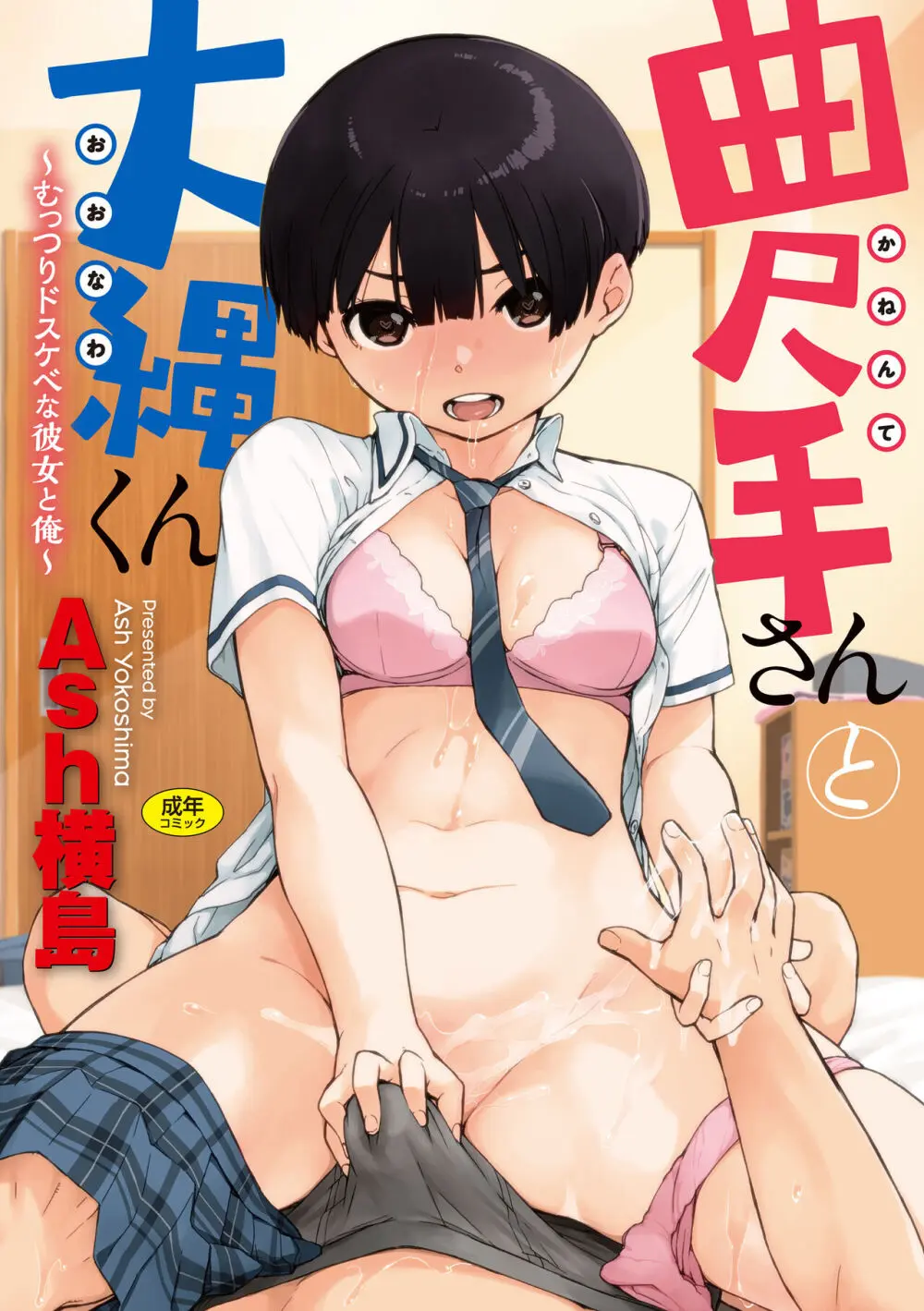
2024年04月16日

2024年04月16日